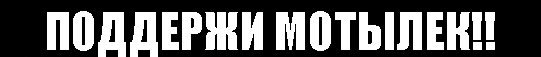“Я так хочу уколоться”, – говорит она и смотрит выжидающе, как смотрят дети, в ожидании чуда. Я внутренне напрягаюсь, откуда-то изнутри, невольно, так и лезет моралист, живущий во мне. Ловлю себя на этой мысли – и сразу успокаиваюсь. Слова назидания так и остаются непроизнесенными. Снова смотрю на нее, ей всего-то 46, то ли старушка, то ли подросток, нелепый хвостик осветленных волос, усталый отстраненный взгляд выцветших глаз, как у всех тех, кто освобождается из колоний после долгого срока…
В памяти мгновенно всплывают картины прошлого, далекого, кажущегося почти нереальным – ежедневные поездки в табор за наркотиками, совместная обреченность. Две попутчицы, скованные одной цепью, волею судьбы, оказавшиеся в одном поезде, зашедшем в бесконечный и черный тоннель…. Мы знакомы много лет. Когда-то, в прежней жизни, жили в одной квартире, если конечно можно назвать жизнью наше существование в ущерб здравому смыслу и куску хлеба, это ежедневное добывание денег и поиски наркотиков. Вдруг понимаю, что ей, только вчера появившейся на свободе после четырехлетнего отсутствия, просто не с кем об этом поговорить, из старых знакомых осталась я одна, все остальные умерли, а немногие из тех, кто живы, разбросаны по Калининградским зонам.
– Я не знаю, – отвечаю я и вижу, как она недоверчиво втягивает голову в плечи, ссутуливается, становясь намного старше, ее глаза, и без того неживые, еще больше тускнеют. Вздыхает, словно я обманула ее ожидания, затем снова смотрит умоляюще.
– Таня, я не вру и действительно ничего не знаю. В моей жизни за последние годы так много изменилось, сейчас это совсем другая жизнь. Задумываюсь, ведь об этом не расскажешь в двух словах. «А потом», – вдруг осеняет меня, – «у тебя дома есть водопровод и целая сахарница сахара – там все бесплатно и без обмана, в отличие от того, чем торгуют в городе под видом героина. Не трать зря деньги, ничего хорошего не найдешь, а только расстроишься. Это ведь не столько желание уколоться, сколько ностальгия по молодости. Но тогда и солнце светило ярче, и клубника была краснее… То, что осталось в твоей памяти уже ушло безвозвратно. Его не повторишь, не вернешь…».
За окном еще не до конца рассвело, январский ветер завывает за окном, а в кабинете равного консультирования тепло, уютно, непривычно тихо и пусто. До начала рабочего дня осталось минут сорок. Посетителей еще нет, их основной поток пойдет позднее, когда в кабинетах центра СПИД начнется кварцевание, тогда часть очереди постепенно перебазируется из основного здания ко мне во флигель – кто-то переждать, попить чайку и запить таблетки, кто-то в надежде познакомиться; а кто-то – получить консультацию и совет, поделиться наболевшим, рассказать о том, о чем не каждому расскажешь.
Татьяна освободилась только вчера, и уже сегодня нашла меня каким-то чудом. Пластиковый стаканчик с чаем в ее опухших и испещренных сеткой красных сосудов руках кажется крохотным, почти игрушечным.
– Да, руки так и не проходят, – со вздохом говорит она, поймав мой взгляд. И сразу же без паузы продолжает: «На освобождение дали 700 рублей. Я так хочу уколоться! Весь срок об этом мечтала. Ну придумай что-нибудь, помоги!»
Вот уж поистине – гвоздь в голове! Он не прошел за годы, за сроки заключения. Сколько их было в ее жизни – за употребление и хранение, за нелепые вываренные ватки, за оставленный про запас растворитель, а позднее – за остатки вещества в непромытом шприце. Наверное, лет 12 вылетело из ее жизни, прошло за колючей проволокой, стоя на проверках в обязательной униформе, косынке, ватнике, под окликами надзорок, там, где дольше века длится день. И что же? Суровое наказание не достигло цели, выводы не сделаны, желания неизменны. Да и как можно судить ее за хроническую болезнь, которой она больна лет эдак тридцать (или больше?), да еще и так – не по-детски жестоко, забрав так много из жизни женщины – и семью, и молодость, и красоту. И все это отдано за это болезненно-неистребимое желание уколоться, от которого она не избавится, наверное, никогда…
Выдерживаю паузу, она тоже молчит, смотрит куда-то в пол в одну точку. Не верит, – вдруг понимаю я. Конечно, когда мы встречались в последний раз все было совсем по-другому…
СИЗО
Ее завели в камеру СИЗО с огромной клетчатой сумкой «а-ля 90-годы», она волочила ее за одну ручку, вторая оторвалась под тяжестью, не выдержав вес поклажи. Нас пятеро в камере, она шестая. Удивляемся – что это? Волшебная сумка открывается, словно скатерть-самобранка из детских сказок – конфеты! Леденцы, сплавившиеся в монолит, не переломанные сигареты без фильтра, чай. «Я же под подпиской была», – объясняет она, – «знала, что посадят, собиралась». У нее одна закупка, угостила знакомую, с ней укололась, а та умудрилась что-то там вынести и отдать оперативникам, получился сбыт, срок дали 4 года. Татьяна располагается и начинается праздник шестерых голодных, уставших от баланды, женщин, поедающих конфеты…
На нашем этаже в камерах почти 70 женщин и почти все – за преступления связанные с наркотиками, ожидающие судов по восемь и более месяцев, еще не осужденные, но уже лишенные всего.
Каждое утро Татьяна просыпалась с рассветом, садилась на шконке второго яруса, смотрела в окно камеры, откуда открывался вид на сосны, двор и тюремный забор, вышки, а дальше – вершины деревьев и крыши – мир, живущий без нас, в котором нам не было места. Там вдали – еле заметный просвет, зимой и осенью видно, как к поселку подходят электрички, а их свист и приближение слышно всегда. Целые дни она смотрела в этот просвет, встречала свист электричек со словами: «Героин привезли». Верила, ждала и твердила: «Он обещал, значит привезет». Вздыхала, ждала и встречала следующую электричку. Просыпалась, занимала свою вахту у окна и ждала. Так прошло почти 2 месяца, а потом нам сказали, что он приезжал на свидание, но его не пустили, отправили домой «до завтра» из-за запаха спиртного. На следующий день он тоже не приехал, его арестовали, позднее дали срок, но тогда она ничего об этом не знала, терпеливо глядя в окно…
– Господи, уже прошло четыре года, – понимаю я. У меня так многое поменялось, словно бы и не было этой камеры, СИЗО, маниакального ожидания чуда в виде неожиданно появившегося в камере героина. Злость и недоумение отступают, и я начинаю объяснять, рассказывать о том, что произошло со мной за этот период. О том, чего она не знает, ведь после вступления приговора в силу она была переведена в зону, а у меня состоялся суд. Тогда мне повезло, судьба сжалилась надо мной, и я получила 1 год колонии – поселения, уже через четыре месяца была дома, ведь мое пребывание в СИЗО до суда длилось целых восемь месяцев.
Моя история после освобождения
Таня, помнишь ту 3-х комнатную хрущевку, в которой мы жили с мужем и его родителями? В ней одна комната была общая, проходная. Когда я освободилась, узнала, что родителей увез брат мужа, так он отжимал свою долю квартиры. Только через год мы нашли мать мужа в Хосписе, почти сразу похоронили, отец же доживает жизнь на съемной квартире. У нас же появились соседи – маклеры, потом пятеро украинцев, а затем, семейка из Казахстана из четырех человек. Они были подготовлены, знали о моей судимости, и рассчитывали быстро избавиться от нас с мужем. Сначала они стали предлагать деньги и размены в страшных общагах, а потом решили просто задавить физически и морально, начали угрожать, выбрасывать мебель, потом перестали пускать на кухню, дошло до того, что они сняли защелки с дверей и стали врываться в туалет, и даже избивать нас. Мне надоело и я заявила, что у меня СПИД, и им нужно остерегаться хватать чужие вещи и распускать руки, что жить они будут со мной долго и счастливо, и даже если нас с мужем убьют, то нашу долю не получат, ведь у нас есть наследники первой очереди. Они ужесточили репрессии, милиция не вмешивалась, требовала найти свидетелей избиений, или цинично отвечала: «Уже убили бы друг друга», а с прокуратурой мы состояли в бесполезной переписке.
В поисках защиты я отправилась в Центр СПИД, Минздрав, и уже оттуда меня отправили в общественную организацию «ЮЛА». Только они не отмахнулись, а нашли участкового, и вместе с ним зашли к нам домой, там и увидели всю картину происходящего. Участковый потом недоумевал, надо же, мол, соседи – такие с виду приличные люди, а оказались хуже, чем наркоманы. Вмешательства организации хватило, чтобы соседи стали договариваться, и через полгода мы с мужем жили в отдельной квартире. Почти сразу я попала в Казань на свой первый тренинг по социальному сопровождению, стала сотрудником организации «ЮЛА», членом группы взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ, проводимую дружественной организацией, стала работать равным консультантом. Так, неожиданно, несчастье помогло, моя жизнь изменилась, а в ней появился смысл.
Теперь я помогаю таким же, как и я, людям, живущим с ВИЧ, употребляющим наркотики, освободившимся – помогаю начать лечение, поверить в себя, найти выход из сложной ситуации. Ведь мы за свою жизнь настолько привыкли жить с чувством вины, что даже не понимаем, как часто этой нашей виной манипулируют и нарушают наши права. Как часто мы не протестуем и не сопротивляемся, когда разглашают наш диагноз и унижают, когда читают морали, утверждают, что сами виноваты и отказывают в лечении; в этих случаях мы уходим и тихо умираем, и ничего не остается после нас, не изменяется.
Мне повезло, я нашла людей, единомышленников, живущих в разных городах и странах, много где побывала за эти четыре года. Это совсем другая жизнь, и для меня важно то, что я делаю.
Татьяна внимательно слушает, смотрит на меня уставшими глазами и тоже рассказывает о том, что было после нашей последней встречи
Женская зона
– Знаешь, -говорит она, – а я работала в зоне ночной дневальной.
Вот ведь удивительная абракадабра «ночная дневальная»!
– И что это за работа, что же ты там делала? – спрашиваю я.
– Это работа ночной дежурной. Правда, платят за нее мало, едва на сигареты хватает, да еще и завезут дорогие в магазин, вот и кури. Но главное в зоне, чтобы было свое, чтобы ни у кого не просить, не «побираться», да и не даст никто просто так! А еще, с этой работой у меня была огромная привилегия – возможность спать днем, когда всем остальным это запрещено, нельзя даже присесть на постели, уж не говоря о том, чтобы прилечь. У нас же знаешь, если поймают, сразу пишут рапорта – за то, что присел, прилег, или, к примеру, пошел в столовую один, а не со всеми строем, вынес оттуда кусок хлеба, или за то, что без косынки. Ну, и конечно, за курение не в том месте, а уж сон в неположенное время, вообще строго запрещен. Два, три рапорта – и ты уже злостный нарушитель, и если вдруг случиться какая-нибудь амнистия или УДО (условно-досрочное освобождение), то не пройдешь, комиссия и суд не пропустит. Правда, за все мои сроки, эти чудеса меня ни разу не коснулись – статьи за наркотики под амнистии не попадают. А насчет УДО тоже я видно «рылом не вышла», да и кого отпускают по нашим статьям! Все мои сроки – от «звонка – до звонка», ни не день раньше не выходила.
Татьяна грустнеет, а потом продолжает:
– А ночью я могла читать. А еще, – оживляется она, – а еще, жизнь заставила, и я научилась вязать на спицах, как машинка. Вязала всей администрации, чтобы выжить. Длинное пальто вывязывала за две недели. Придут, покажут картинку в журнале, я и вяжу, а они нахваливают. А в благодарность, веришь, до смешного, принесут шоколадку, я же ничего и потребовать то не могу. А им хорошо – и дешево и сердито.
Она задумывается. А я вспоминаю аналогичный случай, когда я сама, отбывая наказание в колонии – поселении, нарисовала штук пять стенгазет для ребенка одной из дежурных. Она «запасалась», зная, что мне скоро освобождаться, заказала их на все праздники – и к дню учителя, и к Новому году, к 1 и 9 мая, к дню защиты детей… и тоже принесла шоколадку… а когда я освобождалась – сетовала: «Надо же, вам удалось отсидеть весь срок (это мои-то четыре месяца!) и ни разу не выйти на работу, больше так никому не позволю». Это была констатация того, что я не участвовала в разгрузках машин с прицепами, которые привозили на зону овощи – картошку, свеклу и капусту; не тянула «путанку», огораживая территорию поселка, разматывая ее от огромной, выше человеческого роста бабины; не рыла траншею, прокладывая кабель. Все это делали пятеро женщин, из тех, кто оставался на поселке, когда остальные уезжали на работу на рыбное производство, а нас туда не взяли из-за гепатита и ВИЧ-инфекции. И никто из администрации не задумывался о том, что мешки с картошкой весят по 50 килограммов, что они больше, чем могут поднять эти женщины, которые сами-то столько не весят, что ограничения для человека с гепатитом – 4-5 килограмм. Но эти великие русские женщины, поднимали эти мешки и разгружали пятитонные машины, просто потому, что за это что-то там платили, только потому, что для них не было другой работы, и очень хотелось есть. Потому, что для отбывающих наказание в колонии – поселении кормежка не предусмотрена, там «самообеспечение»; и, отправляя людей на срок, никто не озаботился тем, что людей нужно кормить, или обязательно трудоустроить, ведь не у всех же есть родственники. Что же касается меня, то это была не привилегия, а то, что у меня первая группа инвалидности, и я объяснила, что работать-то не против, но не судьба…
Что делать?
Воспоминания мелькнули, накрыли, как волна и отпустили. За окном идет снег. А мы с Татьяной сидим в тепле, и пьем чай в кабинете равного консультирования. Я слушаю Татьяну, задаю вопросы, она отвечает и начинает потихоньку «оттаивать». Рассказывает, что в ее квартире живет сын с девчонкой, ему 23, так и вырос без нее, пока она сидела; хорошо, что он ее признает, но жить к нему она не поехала, поселилась у матери. Уже сегодня встала в 5 утра и пошла вместе с ней на работу. Мыслимое ли дело – ее мать в 70 лет работает дворником. «Веришь, – говорит Татьяна, – сегодня я помогала ей отколачивать лед на участке и поняла, что в жизни я еще никогда так не работала».
Она с грустью говорит о том, что совсем не знает, что же делать дальше. Планов пока никаких, а из проблем – то, что освободилась без паспорта, его нужно получить, и как-то жить дальше.
– Интересно, почему же в колонии не восстановили паспорт за это время?
– Они посылали запросы, но так и не дождались ответа. Ну, во всяком случае, мне так объяснили, а ругаться не хотелось. Вышла, дали 700 рублей…
– Знаешь, Таня, давай подумаем, что ты хочешь делать дальше, что планируешь. Я могу помочь, чтобы ты быстрее получила документы, устроилась, прописалась. Еще, можно попробовать написать заявление в социальные службы на выделение материальной помощи. А вечером, приглашаю на группу взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ, приходи к нам сегодня.
Сопровождение
Дальше все шло по плану – уже через 10 дней Татьяна получила новый паспорт, прописалась, получила полис, чуть позднее материальную помощь – 2 тысячи рублей «на восстановление документов, социализацию и адаптацию». К тому времени она давно работала – устроилась с матерью дворником в ЖЭУ, вместе они вставали в пять утра, убирали три участка, а потом она бежала в магазин, где мыла полы за несколько тысяч. Мы иногда созванивались, она забегала ко мне на работу, чаще всего, когда приходила в центр СПИД за таблетками или сдавать анализы. Потом Татьяна нашла еще одну работу, ведь нужно было жить, одеваться, что-то есть. Она никогда не жаловалась, вот только синие круги под уставшими глазами и потеря веса говорили сами за себя. Нужно ли говорить, что почти сразу она начала колоться; чтобы покупать героин работала, а чтобы так работать – кололась. Я пыталась объяснить ей, что такая нагрузка не под силу и здоровым, что у нее всего 200 клеток иммунитета, хронический гепатит, печеночные пробы зашкаливают, что 46 лет это не 18, что нужно найти работу в тепле, беречь себя. Татьяна слушала, кивала и снова бежала по замкнутому кругу. Конечно, такой нагрузки она не потянула, как-то позвонив мне сказала, что на работе у нее стала часто кружиться голова, что она несколько раз падала в обморок. Мы встретились, и я повела ее к врачу-инфекционисту. Оказалось, что ограничений на физический труд не имеется, как и оснований для направления на группу инвалидности. Странно, но факт! Это там у них, в загнивающих странах, 200 клеток – стадия СПИДа, а у нас, это медикаментозная ремиссия и полная трудоспособность, даже без ограничений. Так и ушли мы от врача ни с чем, и жизнь снова пошла своим чередом.
Вот и пришла любовь
«Знаешь, а я влюбилась», – сказала она мне при очередной встрече. И начала рассказывать нашу вечную женскую историю о том, какой он распрекрасный. Работает, заботится, почти не колется, ну просто эталон – хоть сейчас в музей и под стеклянный колпак.
Но ее жизнь значительно усложнилась – теперь она ночевала у него, а утром на первом автобусе уезжала на свои многочисленные работы, потом добывала деньги, только уже на двоих. Он не отказывался, еще бы, ни о чем и просить-то не нужно, а нужно просто быть – самым-самым и все! Все заботы она взяла на себя, но разве можно накормить это пожирающее мозг чудовище, которое разрастается и требует – все больше и больше, да еще и находить деньги на двоих больных наркоманией долгие годы. У каждого их них были свои алгоритмы: в поисках выхода она взяла кредит, а он, поругался с кем-то из сотрудников и уволился с работы. Ее кредит то был не то, чтобы очень большой, но ведь отдавать – не брать. Я спросила ее: «Ну с чего ты взяла, что три тысячи в месяц легко отдавать? Если их нет сейчас, то откуда они возьмутся потом, лишние?» Но было уже поздно – машина на самоуничтожение работала, и существовало только сегодня, здесь и сейчас, а завтра, завтра мы «что-нибудь придумаем». Все, что она придумала – купить себе много и дешево, нашла выходы, договорилась, купила. Но судьба, или люди (?) распорядились иначе – на въезде в город машину остановили, именно ей предложили выйти, весь запрещенный груз нашли, изъяли. Задекларировали всего-то два грамма, большую часть оставили себе для оперативной работы и «подкормки» тайных агентов, она же была этому очень рада, хоть надежда оставалась, что суд ограничится условным приговором.
И вот мы снова в моем кабинете, решаем, что делать. Я предлагаю ей пойти и сдаться в наркологию, собрать справки, характеристики с работы, она соглашается, и я веду обоих влюбленных на прием к врачу-наркологу. Вместе с ней захожу в кабинет, рассказываю, что она хочет пройти детокс, что на учете не состоит. Врач-нарколог, работающий в наркологии всю жизнь, смотрит на нее с удивлением. Спрашивает: «И сколько же лет ты колешься?». «Тридцать»,- отвечает она. Врач приподнимает брови: «И где ж ты была,… старушка?».
В тот же день они вдвоем, по-семейному, укладываются в отделение, через неделю я отношу им сигареты и какие-то булочки, а еще через несколько дней звонок: «Мы выписались».
«Почему!!! – недоумеваю я, – ведь 11 дней это просто мало, разве что организм отдохнул. Вас что выгнали?» Оказалось, что нет, просто, понадобились места для новых пациентов, им предложили выписаться пораньше, и они с радостью согласились.
Спрашиваю:
– Ну какая же в этом польза?
– Есть, – отвечает она, – сбили дозу.
И вот она снова выходит на работу, весь круг повторяется. Только добавляется еще одна проблема – вместо погашения кредита она, горестно и обреченно, собирает очередную клетчатую сумку, словно знает, что ее точно посадят. Я не верю: «Это же хранение, для себя, ты работаешь, прошла курс лечения», но ее следователь разъясняет мне, что шансов остаться на свободе и правда очень мало, ведь ее предыдущая судимость не погашена.
Самый гуманный суд в мире
Суд состоялся как-то скоропостижно быстро, да и что там тянуть! У нее, очередной раз, полное признание и «особый порядок рассмотрения дела». Судья откровенно скучает, смотрит в окно, она уже давно устала от многочисленных наркоманских дел. Прокурор настроен воинственно – судимость не погашена, кроме того, предыдущий срок Татьяна отбывала за сбыт, а значит, и два грамма героина также приобретено с целью сбыта, просит вменить рецидив. В деле нет никаких доказательств, того что она собиралась торговать, но срок Татьяне дают реальный – один год лишения свободы. И это, несмотря на состояние здоровья, наличие работы и пройденное лечение от наркомании. Сумка пригодилась… В этот раз на свободе она пробыла один год и три месяца, через пару недель у нее день рождения, ей исполнится 47 лет, эту дату она отметит в тюрьме.
Места лишения свободы
Первое письмо от Татьяны повергает меня в шок. В нем она пишет: «День рождения, о котором я так мечтала, я встретила в СИЗО, единственный подарок – то, что в этот день принесли письмо от тебя, читала и плакала. Еще, со мной происходит что-то непонятное: при поступлении в СИЗО мне сделали флюорографию, выявили какое-то затемнение на легких, сказали, что диагноз не уточнен, но на туберкулез не похоже. И все, вот уже месяц я сижу одна в камере. Меня никуда не вызывают, не переводят, ничего вообще не говорят, наверное так я сойду с ума от неизвестности…».
Я рассказываю об этом девчонкам из общественной организации «ЮЛА» с которыми работаю. Они выезжают в места лишения свободы, консультируют там по ВИЧ-инфекции; две сотрудницы нашей организации входят в состав Общественно-наблюдательной комиссии. Я прошу ОНК проверить информацию, изложенную в письме, проверяет, оказывается, все правда, у Татьяны выявлена опухоль, а более точную диагностику нужно организовать, это произойдет в июне.
В конце мая я узнаю, что Татьяну перевели в женскую колонию, подняли в отряд. А в июне звонок:
– Мне диагноз установили, но я не понимаю… Они говорят, что это онкология. Разве бывает так быстро? Мы же с тобой совсем недавно ходили в центр СПИД, я делала флюшку, и была совершенно здорова.
Я молчу, потому, что не знаю, что нужно говорить в таких случаях, да и все сказанное будет звучать фальшиво. Я обещаю приехать к ней на краткосрочное свидание вместе с ее матерью. Еще она просит позвонить ему, любимому, может быть и он поедет с нами.
Краткосрочное свидание
Мать Татьяны – старенькая, хрупкая, в огромных очках на пол лица. Вместе с ней мы едем в колонию, на свидание. Она тащит передачу – огромные сумки с продуктами, которые мне с трудом удается поднять, это в 70-то лет! Низкий поклон вам, великие женщины – матери!
Нас заводят в зону, и вот я иду по территории, которую столько раз видела из окна СИЗО. Все совсем по-другому, ансамбль старых немецких зданий из красного кирпича выглядит колоритно, почти торжественно. Знаю, что сейчас нас разглядывают из всех окон 3-х этажей: из камер СИЗО, где на разных этажах сидят бывшие сотрудники, женщины и малолетки, дальше – из окон производства и отрядов женской колонии.
Нас заводят в помещение с огромным столом, рассаживают, заводят троих осужденных. Татьяна в синем халате, в белой косынке (Зачем эти атрибуты обезличивания? Может они способствуют исполнению приговора?) выглядит странно и даже неплохо, но больше всего поражает ее загорелое лицо. Она рада видеть нас, улыбается, объясняет, что ее загар только до воротничка одежды, от того, что большую часть времени сидит на улице, на работу ее не посылают, а в отряде тоже делать нечего, на постель не присесть, ни прилечь. Они с матерью разговаривают, а я не тороплюсь, еще успею, ведь мы зашли на целых четыре часа, на этом настаивала одна из женщин, приехавшая к дочери. Вот и до меня доходит очередь. Татьяна передает мне копии медицинских документов и начинает рассказывать:
– Меня вызвала начальник медчасти и спрашивает, ты, мол, устойчивая, в смысле – не слабонервная? А я ей отвечаю: «Да нет, все нормально». – «У тебя рак легких. В ноябре повезем на УЗИ, а там посмотрим».
– И это все?
– Все
– А лечат-то чем?
– Ничем. Даже постельного режима не дали, разрешили сидеть рядом с постелью на табуретке. Правда от зарядки, освободили, но выходить на нее я должна. И все.
– Татьяна, я оставлю в спецчасти доверенность, подпиши у начальника колонии, я буду торопить их с твоим лечением. А еще, сегодня поговорю с твоим начмедом, все узнаю, позвонишь мне я все тебе расскажу
– Не смогу, заявления на звонки подписаны на месяц, так что напиши, это быстрее будет.
Через пару часов в разговорах все чаще возникают паузы, не выдерживаю, говорю: «Если честно, то мы уже обо всем наговорились» По-моему, все присутствующие рады. Они тоже устали, и неожиданно быстро решают, что пора прощаться.
Нас начинают выводить почему-то одновременно, я мешкаю, зная здешние порядки, но не успеваю предупредить мать Татьяны, она шагает к дочери, успевает протянуть руку, но раздается резкий окрик дежурной надзорки: «Татьяна, иди пиши объяснение за нарушение!». Мать застывает, она уже осознает, что произошло что-то страшное, непоправимое. Смотрит на меня и спрашивает: «Что? Что же теперь будет?» По ее щекам катятся слезы, она спрашивает: «Ее что теперь накажут?»
– Не знаю – отвечаю я – «Попробуем извиниться, Татьяна то ведь ничего не сделала. Дежурная сама совершила ошибку, не вывела осужденных, все пошли в двери одновременно. Будем разговаривать, нам нарушения не нужны». Всю дорогу объясняюсь с дежурной, о том, что контакта не произошло, что движение было со стороны матери, что возможно она и не увидит дочь при жизни. Да и просто, прошу понять это материнское желание дотронуться до своего ребенка…
Дежурная не подает виду, но думаю, что писать рапорт не станет. Да и по сути, писать его ей нужно на себя.
Лязгают железные двери, еще одни. Нас выводят из зоны. Мы остаемся ждать доктора.
Право на жизнь
Мы вместе с матерью Татьяны бродим по дороге возле зоны, начальник медицинской части на стрельбах, мы ждем ее возвращения. Она появляется, ей лет 27-30, здороваемся, и я начинаю задавать вопросы о стадии онкологии, о плане и сроках диагностики и лечения, и самое главное – будет ли она ходатайствовать об освобождении в связи с заболеваниями, препятствующими отбыванию наказания (по ст.81 УК РФ), ведь у Татьяны два заболевания, входящих в перечень – ВИЧ-инфекция в 4 «В» стадии и онкология. А еще спрашиваю, почему УЗИ в октябре, и будет ли у Татьяны этот октябрь.
Начальник медицинской части отвечает: «Стадия онкологии начальная, лечить еще не поздно. Но она же сама виновата! Надо же, паспорт у нее просрочен и полиса нет. Теперь нам каждый выезд нужно оплачивать, мы, конечно, все организуем, когда в колонии будут деньги на лечение, когда будут машины и бензин».
Я очень удивлена, говорю: «Странно, ведь я вместе с ней новый паспорт получала и полис». Не спорю, а вдруг после этого Татьяне исполнилось 45 лет, я не уверена.
Об остальном доктор заявляет: «А ходатайствовать об освобождении колония не будет, ведь преступление связано с наркотиками».
– Не поняла, – спрашиваю я, – Это что означает, что наказание за употребление наркотиков смерть?
Она поднимает на меня глаза, словно бы увидела впервые, и спрашивает: «А вы откуда»?
Объясняю, что я из общественной организации, что Татьяну сопровождаю согласно заключенного еще год назад договора, что буду защищать ее право на жизнь, а следовательно, на доступ к диагностике и лечению, ведь у нее не смертный приговор, а один год колонии. Рассказываю ей, что сопровождала еще двоих, освобожденных из этой же колонии женщин, которых не принимала ни одна больница и везде мне заявляли: «Пусть долечат там, где так полечили».
Она в некоторой растерянности, а потом находит спасительный аргумент:
– Ну ведь они вышли и стали колоться. И Татьяна начнет.
– И что? – спрашиваю я, – Начнет. Вот только ей пропишут тот же морфий легально, по заболеванию. А чем вы собираетесь снимать ей боли, если придется?
– Да у меня таких, как она, с онкологией двенадцать человек, – следует новая реплика
– И что же вы с ними делаете? И еще вопрос – у них тоже ВИЧ-инфекция в 4 «В» стадии и онкология легких с непредсказуемой динамикой?
Она ничего не отвечает, надеюсь, что хоть немного задумается. На этом мы расстаемся.
Мы с матерью Татьяны бредем по лесной дороге, женская зона за городом, все автобусы и поезда давно ушли. Я уточняю год рождения и начинаю отсчитывать момент получения паспорта, нет, все правильно, паспорт получен в 46 лет, и он наверняка действителен. Или доктор ошибается, или просто врет.
По приезду домой составляю ходатайство на имя начальника УФСИН, где излагаю свои доводы и задаю вопросы, озвученные медичке. Пишу о том, что со слов врача препятствием к диагностике является паспорт, о том, что это ошибочно, и паспорт действителен. В конце ходатайства прошу ускорить диагностику, организовать лечение и медико-социальную экспертизу для определения степени трудоспособности и группы инвалидности, а также рассмотреть вопрос о возможности предоставления ходатайства администрации к освобождению по заболеваниям перед судом.
Ждем. Ждем. Ждем. Никакой информации, Татьяна не звонит. Время идет, и ничего не происходит. Потом она звонит, говорит, что назначен день суда по ее заявлению об освобождении (ст.81 УК).
Обращаюсь в Санкт-Петербург Леониду Петрову, эксперту с 25летним стажем, возможно ли сделать заключение о состоянии здоровья на основании медицинских документов. Он отвечает, что да, можно. Мы с адвокатом Александром Коссом отправляем запрос и копии документов, ждем. К решению вопроса об оплате услуг эксперта подключается Аня Саранг, которая живет в Москве. Она никогда не видела Татьяну, но именно она неравнодушна и находит возможность помочь. Журналист из Московского комсомольца Настя Кузина пишет статью, она услышала историю Татьяны от меня на встрече в Киеве. Все запросы и ходатайства мне помогает писать Михаил Голиченко, он руководит процессом из Торонто. В Калининграде запросы от организации людей, живущих с ВИЧ, посылает Света Просвирина из «Статус плюс», в зону выезжают представители ОНК и представители организации «ЮЛА», в которой я работаю.
Люди, находящиеся за тысячи километров друг от друга, готовы придти на помощь, они не читают моралей, не говорят о том, что «сама виновата, нечего было…», а просто спасают чью-то жизнь. Ибо даже одна спасенная жизнь важнее нравоучений, превыше законов отдельной страны, предписывающих «сидеть» за хранение наркотиков сверх разрешенного количества, даже, если это грозит смертью.
Суд по 81 статье УК
Приезжаю, я готова к суду, но из администрации никого нет, суд отложен, причины непонятны. Только позднее из ответа УФСИН узнаю, что диагноз опровергнут. Еще позднее узнаю, что после моего заявления Татьяну увезли в тюремную больницу, оттуда, к теракальному хирургу, которой опроверг результаты компьютерной томографии, и все это сделал в результате простой консультации. Назначен срок новой томографии. Ровно два дня Татьяну лечат в тюремной больнице от пневмонии (!!!), а потом снова привозят в зону ждать диагностики, назначенной еще через два месяца.
Я пишу заявление в ОНК, они выезжают с проверкой, но к тому времени проходит новая диагностика. Диагноз подтверждается, после этого назначается день суда, уже в сентябре. Администрация колонии уже даже готова ходатайствовать за освобождение.
Ну вот, наконец-то, долгожданный суд! Судья строга, она не признает мою доверенность, но все же, разрешает остаться в заседании. Потом выясняется, что мы рассматриваем заявление Татьяны; если администрация хочет присоединиться с ходатайством, то суд нужно переносить, ведь Татьяна с бумагами не ознакомлена и на суде не присутствует. Представители администрации отзывают ходатайство, а освобождение Татьяны отстаивают уже в процессе, характеризуют положительно, говорят, что не могут ее содержать, что нечем снимать боли. Не говорят только одного, того, о чем пишет в заключении эксперт, что для лечения онкологии нужна лицензия, которой нет и не может быть у медицинской части колонии. Мне все-таки дают слово, я рассказываю об отношениях с матерью, о динамике ВИЧ-инфекции, о том, что лицензии на лечение онкологии у колонии нет. Судья с удивлением смотрит на представителей: «Это действительно так?» Они подтверждают.
Судья удаляется, а потом зачитывает решение:
– Освободить из зала суда немедленно.
– Как немедленно? – спрашивают они
– Так, а то она у вас не доживет до свободы.
Свобода
Через несколько часов я встречаю Татьяну у ворот, везу домой. Там ее ждет старушка мать, все-таки увидела, дожила, дождалась.
Вечером отправляю письма и звоню всем тем, кто принимал участие в ее освобождении; «Все вместе мы это сделали!»
А дальше? Уже два месяца Татьяна на свободе. Пройден онкологический консилиум, вердикт врачей «Лечение по симптоматике. Оперативное вмешательство не показано», на прошлой неделе получена 2 группа инвалидности, ей выписывают трамадол, который в принципе до конца не снимает боль, но это лучше, чем ничего.
Я не пытаюсь читать ей морали, изменить ее, или причинить ей добро.
Теперь ее жизнь в ее руках. А мне просто хочется сказать: «Живи, Татьяна!»
Источник: rylkov-fond.org
Автор: Лариса Соловьева
Фото: Михаил Фридман